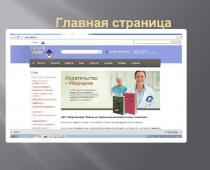Чем ближе крах империи тем безумнее ее законы.
Стремитесь к тому, чтобы ваша семейная жизнь была лучше, чем ваша свадьба.
Позитивное мышление не позволит вам сделать все, но оно позволить вам делать все лучше, чем негативное мышление.
Парадокс: чем глупее и неудачливее мужчина, тем у него больше претензий к женщине.
Чем меньше человеку нужно, тем ближе он к богам.
Женщина должна быть как хороший фильм ужасов: чем больше места остается воображению, тем лучше.
Все человеческие беды происходят от того, что мы наслаждаемся тем, чем следует пользоваться, и пользуемся тем, чем следует наслаждаться.
И все же, будем верить в чудеса,
Смотреть на мир влюбленными глазами,
Тогда к нам ближе станут небеса,
И мы потрогать сможем их руками.
Не пытайся казаться лучше, чем ты есть. Не старайся казаться хуже, чем ты есть. Ведь тех, кто кажется, вовсе не существует.
Все зависит от сорта твоего вина. Если оно дешевое, от возраста скиснет. Если благородное, станет только лучше. Отсюда вывод: чем человек делается старше, тем качественнее он обязан становиться.
Мысли мои вертелись только вокруг одного – вокруг моей пьесы. С того самого дня, как прислано было Фомою Стрижом мне решающее письмо, жизнь моя изменилась до неузнаваемости. Как будто наново родился человек, как будто и комната у него стала другая, хотя это была все та же комната, как будто и люди, окружающие его, стали иными, и в городе Москве он, этот человек, вдруг получил право на существование, приобрел смысл и даже значение.
Но мысли были прикованы только к одному, к пьесе, она заполняла все время – даже сны, потому что снилась уже исполненной в каких-то небывающих декорациях, снилась снятой с репертуара, снилась провалившейся или имеющей огромный успех. Во втором из этих случаев, помнится, ее играли на наклонных лесах, на которых актеры рассыпались, как штукатуры, и играли с фонарями в руках, поминутно запевая песни. Автор почему-то находился тут же, расхаживая по утлым перекладинам так же свободно, как муха по стене, а внизу были липы и яблони, ибо пьеса шла в саду, наполненном возбужденной публикой.
В первом наичаще снился вариант – автор, идя на генеральную, забыл надеть брюки. Первые шаги по улице он делал смущенно, в какой-то надежде, что удастся проскочить незамеченным, и даже приготовлял оправдание для прохожих – что-то насчет ванны, которую он только что брал, и что брюки, мол, за кулисами. Но чем дальше, тем хуже становилось, и бедный автор прилипал к тротуару, искал разносчика газет, его не было, хотел купить пальто, не было денег, скрывался в подъезд и понимал, что на генеральную опоздал...
– Ваня! – слабо доносилось со сцены. – Дай желтый!
В крайней ложе яруса, находящейся у самого портала сцены, что-то загоралось, из ложи косо падал луч раструбом, на полу сцены загоралось желтое круглое пятно, ползло, подхватывая в себя то кресло с потертой обивкой, со сбитой позолотой на ручках, то взъерошенного бутафора с деревянным канделябром в руке.
Чем ближе к концу шел антракт, тем больше шевелилась сцена. Высоко поднятые, висящие бесчисленными рядами полотнища под небом сцены вдруг оживали. Одно из них уходило вверх и сразу обнажало ряд тысячесвечовых ламп, режущих глаза. Другое почему-то, наоборот, шло вниз, но, не дойдя до полу, уходило. В кулисах появлялись темные тени, желтый луч уходил, всасывался в ложу. Где-то стучали молотками. Появлялся человек в брюках гражданских, но в шпорах, и, звеня ими, проходил по сцене. Потом кто-то, наклонившись к полу сцены, кричал в пол, приложив руку ко рту щитком:
– Гнобин! Давай!
Тогда почти бесшумно все на сцене начинало уезжать вбок. Вот повлекло бутафора, он уехал со своим канделябром, проплыло кресло и стол. Кто-то вбежал на тронувшийся круг против движения, заплясал, выравниваясь, и, выравнявшись, уехал. Гудение усилилось, и показались, становясь на место ушедшей обстановки, странные, сложные деревянные сооружения, состоящие из некрашеных крутых лестниц, перекладин, настилов. «Едет мост», – думал я и всегда почему-то испытывал волнение, когда он становился на место.
– Гнобин! Стоп! – кричали на сцене. – Гнобин, дай назад!
Мост становился. Затем, брызнув сверху из-под колосников светом в утомленные глаза, обнажались пузатые лампы, скрывались опять, и грубо измазанное полотнище спускалось сверху, становилось по косой. «Сторожка...» – думал я, путаясь в геометрии сцены, нервничая, стараясь прикинуть, как все это будет выглядеть, когда вместо выгородки, сделанной из первых попавшихся сборных вещей из других пьес, соорудят наконец настоящий мост. В кулисах вспыхивали лупоглазые прожекторы в козырьках, снизу сцену залило теплой живой волной света. «Рампу дал...»
Я щурился во тьму на ту фигуру, которая решительным шагом приближалась к режиссерскому столу.
«Романус идет, значит, сейчас произойдет что-то...» – думал я, заслоняясь рукой от лампы.
И действительно, через несколько мгновений надо мною показывалась раздвоенная бородка, в полутьме сверкали возбужденные глаза дирижера Романуса. В петлице у Романуса поблескивал юбилейный значок с буквами «НТ».
– Сэ нон э веро, э бен тровато, а может быть, еще сильней! – начинал, как обычно, Романус, глаза его вертелись, горя, как у волка в степи. Романус искал жертвы и, не найдя ее, садился рядом со мною.
– Как вам это нравится? А? – прищуриваясь, спрашивал меня Романус.
«Втянет, ой, втянет он меня сейчас в разговор...» – думал я, корчась у лампы.
– Нет, вы, будьте добры, скажите ваше мнение, – буравя меня глазом, говорил Романус, – оно тем более интересно, что вы писатель и не можете относиться равнодушно к безобразиям, которые у нас происходят.
«Ведь как ловко он это делает...» – тоскуя до того, что чесалось тело, думал я.
– Ударить концертмейстера и тем более женщину тромбоном в спину? – азартно спрашивал Романус. – Нет-с. Это дудки! Я тридцать пять лет на сцене и такого случая еще не видел. Стриж думает, что музыканты свиньи и их можно загонять в закуту? Интересно, как это с писательской точки зрения?
Отмалчиваться больше не удавалось.
– А что такое?
Романус только и ждал этого. Звучным голосом, стараясь, чтобы слышали рабочие, с любопытством скопляющиеся у рампы, Романус говорил, что Стриж затолкал музыкантов в карман сцены, где играть нет никакой возможности по следующим причинам: первое – тесно, второе – темно, а в-третьих, в зале не слышно ни одного звука, в-четвертых, ему стоять негде, музыканты его не видят.
– Правда, есть люди, – зычно сообщал Романус, – которые смыслят в музыке не больше, чем некоторые животные...
«Чтоб тебя черт взял!» – думал я.
Последний предвоенный год.
Уже июль к концу идёт.
Становятся студёней зори.
Закаты ранние желты.
Как будто ближе стали взгорья
и чётче снежные хребты...
Счастливый отдых на исходе.
Друзьям, сроднившимся в походе,
с горами расставаться жаль,
но план таков: через Клухори
спуститься вниз, на берег моря,
где зреют сливы и миндаль.
В горах недолго длится лето
и рано стужей дышат льды...
Итак, мы вышли до рассвета
вверх по теченью Теберды.
Тысячелетних скал горбы
от мха иззелена-седы,
и камни масляные лбы
высовывают из воды.
Похожие на веера,
фонтаны брызг шумны, белы...
Литые глыбы серебра
стремятся с гулом изо мглы,
и на волны крутой разбег
взлетает, тельце накреня,
форель - творенье горных рек -
в багряных крапинках огня.
Трава густа, и лес высок,
промяты тропки у воды -
следы босых ребячьих ног,
следы подков, следы сапог,
копыт раздвоенных следы...
Всё глуше путь... За часом час
шагаем мы долиной длинной,
в колючих зарослях малины...
Жара и жажда мучат нас.
Скорее бы в тени прилечь,
рюкзак тяжёлый сбросив с плеч!
Беспечный путь на перевал,
студентов шумное веселье...
Как ты мне памятен, привал
у Гоначхирского ущелья!
Скалистый коридор глубок,
на диких кручах пихты виснут,
отвесными стенами стиснут,
на дне беснуется поток,
а наверху при блеске дня
костра чуть видимое пламя,
крик соек, беличья возня,
смех, возгласы... Не помню я,
когда он вырос перед нами
в своей поношенной панаме
и сел у нашего огня.
Так повелось, что в сердце гор
бывают рады каждой встрече.
- Откуда, друг, идёшь? Далече ль? -
...И завязался разговор.
Широкоплечий, средних лет,
на лбу морщин глубокий след,
блеск проседи в короткой стрижке,
бровей колючие кусты...
Глаза пронзительно чисты,
живые, словно у мальчишки.
Он подружился с нами сразу,
хоть от смущения сперва
мрачнел, когда коверкал фразы
и, обрывая нить рассказа,
с трудом подыскивал слова.
Да, он в России эмигрант.
Бежал от гитлеровских банд.
Ему нельзя попасться в лапы
неумолимых палачей,
он чудом скрылся от гестапо
во мраке мюнхенских ночей...
Он ничего не станет в тайне
держать от нас - своих друзей.
Он по призванию ботаник
и по профессии своей.
Специалист альпийской флоры,
он превосходно знает горы,
признаться откровенно, он
в Кавказ, как юноша, влюблён!
Конечно, крест его тяжёл -
в изгнанье жить в такие годы.
Но он у русского народа
вторую родину нашёл.
Какой народ! Он поражён,
глазам поверить трудно даже,
что есть страна, в которой каждый
такой заботой окружён.
Да вот на днях... почти до слёз
он был растроган... довелось
ему увидеть за оградой
кроваток белые ряды...
Вдыхая воздух Теберды,
в них малыши больные спали.
Он узнавал - ему сказали,
что это дети горняков,
учителей, ткачей, матросов...
Он вспомнил чопорность Давоса
среди швейцарских ледников,
баронов и биржевиков,
глядящих друг на друга косо...
Закон советский не таков, -
благословен закон страны,
где все свободны и равны!
Он простирал картинно руку,
взор устремляя в облака.
(Сказать по правде, нам слегка
излишний пафос резал ухо.)
Но всё ему прощали мы:
он из гестаповской тюрьмы!
Неделю шёл он с нами рядом -
всем угождавший человек
с немного напряжённым взглядом
из-под нависших тёмных век.
Перед изгнанником-учёным
мы хвастались наперебой
удобным для подъёма склоном
и вновь отысканной тропой.
Ему указывали, споря,
наикратчайший к морю путь
и предлагали возле моря
в палатке нашей отдохнуть...
Уже огни в воде дрожали,
Сухуми искрился вдали,
когда в пути нас задержали
береговые патрули.
Метнулись над седою стрижкой
вмиг полинявшие глаза.
Солдат сказал сквозь зубы: - Крышка!
Попалась старая лиса!
* * *
Когда его под стражу взяли,
мы не могли в себя прийти.
Мы в сотый раз припоминали
всё происшедшее в пути.
Друг друга горько попрекая,
мы выясняли в сотый раз,
кто усадил, кто налил чаю,
кто плакал, слушая рассказ...
Сидеть, глазеть, разинув рот!
Но ротозейству в извиненье
мы все сошлись в наивном мненье:
мол, горы - это не завод!
Он ворошил вихры ребёнку,
он с нами в кошах пил айран,
кричал он девушке вдогонку:
- Поймаю, козочка, джейран! -
Он был услужливейшим другом,
неутомимым ходоком,
он, проходя альпийским лугом,
бежал за редкостным цветком.
Кладя под лупу лепесточки,
он тут же отмечал на глаз
опознавательные точки
высокогорных новых трасс.
Плато в кольце крутых отвесов
под сочным травяным ковром
определял он кратко: «Место
пригодно под аэродром».
Он даже недоступный купол,
небес светящийся эфир,
глазами тщательно ощупал
и на квадраты разграфил.
И пусть неистребимой тенью
на нашей жизни ляжет та,
граничащая с преступленьем,
доверчивая простота,
с которой мы тогда встречали
на нашем празднике его,
с которой мы ему вручали
ключи от дома своего!
Четыре лета, пыльных, знойных,
четыре долгие зимы
идёт война. Что значат войны,
теперь отлично знаем мы.
Война... не счесть её обличий,
и для меня была она
тяжёлой тишиной больничной,
ночами длинными без сна...
Морозный запах хлороформа,
постукиванье костылей,
жизнь по военным жёстким нормам
во всей обычности своей.
Кушетка с чёрной продранной клеёнкой,
история болезни, телефон...
Часа в четыре ночи трелью звонкой
нетерпеливо разразился он.
Снимаю трубку. Голос в отдаленье,
коротким треском приглушённый звук:
- Дежурную второго отделенья!
- Я слушаю, товарищ политрук.
- Освободите пятую палату,
распорядитесь подогреть воды.
Поедете на Курский, там ребята,
больные малыши из Теберды.
Не хвойный шум, не ветры перевала,
не грозный блеск зелёной толщи льда -
столбцы газет теперь я вспоминала
при этом мирном слове «Теберда».
Мне чудилось, как, увязая в глине,
фашисты топчут склоны наших гор...
Той прежней тропки нету и в помине.
Тропа войны - дорога на Клухор.
На карте стратегическая точка...
И вот однажды вестницей беды
среди коротких сообщений строчка:
«Десант врага в районе Теберды».
Мне вспомнилось плато в кольце отвесов,
в сплошных цветах высокогорный луг...
«Враги успели скрыться в чащу леса».
А лес стоит на сотню вёрст вокруг!
* * *
В палате синий слабенький ночник.
Уже, наверно, далеко за полночь.
Никто из них не звал меня на помощь,
но я не в силах отойти от них.
Как неподвижны голубые лица,
измождены, по-старчески худы!..
Как хорошо им, как спокойно спится
усталым малышам из Теберды!
Они живут здесь в ласке и заботе,
но нужен им другой, доиашний быт...
На крайней койке девочка не спит:
«Не уходите, посидите, тётя!»
Ребёнок в гипсовой кроватке,
чуть шевеля запавшим ртом,
мне говорит спокойно, кратко,
но обстоятельно о том,
как их, детей, согласно списку,
в последний отправляли рейс
те, из дивизии альпийской
с названьем странным «Эдельвейс»...
Я видела: на плоскогорье,
лицом на речку Теберду,
знакомый детский санаторий -
пять белых домиков в саду.
Всё те же острые вершины
и снега вечная черта...
Гудит закрытая машина,
протискиваясь в ворота...
Она уйдёт со страшным грузом,
она придёт за ним опять...
- Что? Дети? - Ни к чему, обуза!..
- Больны к тому же?.. - Истреблять!
Да, истреблять. Подлее слова
не выдумать, когда оно
к ребёнку, тёплому, живому,
так, походя, по-деловому,
убийцами отнесено.
* * *
Вблизи моста, где стынет мгла,
швырнули детские тела
на дно ущелья Гоначхира.
От острых глыб, от голых скал
до жёлтых вод Кубани мутной
их мчал неудержимый вал,
прочь унести спеша как будто.
И дальше их несла вода,
туда, где степи к морю жались,
в долины дымные, туда,
где насмерть их отцы сражались...
Машина ушла, но вернуться должна
за теми, кого не вместила она.
А в тёмной палате шёл ночью совет:
- Дойдут ли? - Попробуем, выхода нет.
- Погибнут они, не осилят пути!
- А здесь? - Что бы ни было, надо идти.
- Теплее одеть, захватить адреса... -
На сборы осталось им четверть часа.
Шелестела ледяная каша,
дождь, хлеща, долины заливал.
Старый врач и санитарка Паша
повели детей на перевал
по опасным осыпям и пенным,
шумным речкам, через Чёртов мост,
по горбатым медленным моренам -
чёрным глыбам в человечий рост...
В летний день на той крутой дороге
лишь в бреду предстать могло бы нам:
детские израненные ноги
здесь скользят по мокрым валунам.
Холод, ветер... По ущельям гулким
рёв осенних, вздутых ливнем рек...
То и дело жалкие фигурки
падают, проваливаясь в снег.
Мишеньки, Алёнушки, Наташи,
сросшиеся с сердцем имена...
Дети наши, маленькие наши,
вот что с ними сделала война!
Как прихода их когда-то ждали,
кукольные тапочки вязали,
покупали мягкую фланель...
Задолго подыскивали имя
и не спали по ночам над ними,
на родную глядя колыбель!
От простуды берегли и кори
или - страшно вымолвить! - огня.
* * *
В ледяной шуршащей мокрой каше
по пояс шагают дети наши...
Матери, вы слышите меня?
Впереди, светясь сияньем млечным,
грозным валом наплывают льды...
В плотный снег впечатаны навечно
детские неверные следы.
У меня они перед глазами...
Тяжело на сердце у меня:
человек в потрёпанной панаме
отдыхал у нашего огня.
Дружбе нашей был сердечно рад он,
собирал цветы и между дел
первоклассным фотоаппаратом
этот страшный путь запечатлел.
Пусть он пойман был ещё в ту пору,
пусть расстрелян... Суть совсем не в нём.
Если я хоть раз впустила вора,
значит, плохо берегла свой дом.
Сколько их, непойманных, бродило
днём и ночью по моей стране...
Как же мне на ум не приходило,
что, возможно, встретятся и мне?
Отчего жила я без заботы,
зла не видя, счастья не храня,
отчего я думала, что кто-то
должен делать это за меня?
Русый ёжик, мягкий и упрямый,
век бескровных бледные края...
- Как тебя укладывала мама?
Расскажи мне... доченька моя...
Ты ведь помнишь маму? На вокзале
поезд ждал отправки, пар клубя...
Грустными, блестящими глазами
мама посмотрела на тебя.
Ей казалось - всё непоправимо:
восемь лет, туберкулёз бедра...
«Ничего, - сказали доктора. -
Теберда, а может, берег Крыма...
Не волнуйтесь: это всё пройдёт!»
Начинался сорок первый год.
Всё пройдёт! Пускай тебе приснится
разное забавное зверьё,
пусть к постельке прилетит жар-птица -
детство улетевшее твоё.
И, хотя бы нам пришлось за тыщи
вёрст идти и днём искать с огнём,
ты не бойся - мы его отыщем
и опять тебе его вернём!
Когда-нибудь возьму я дочь -
она совсем большая стала, -
и нас в пути застигнет ночь
невдалеке от перевала.
Два настороженных коня
пойдут бок о бок, близко-близко,
слегка подковами звеня,
из камня высекая искры...
Вверху звезда зажжёт свечу,
дрожа, дохнёт ночная свежесть,
и ель мохнатая, разнежась,
меня погладит по плечу.
Я наклонюсь и отыщу
родную маленькую руку,
прислушаюсь к глухому стуку
камней на недоступном дне
ущелья... И предстанет мне:
вблизи моста, где стынет мгла,
где даже в зной темно и сыро,
швырнули детские тела
на дно ущелья Гоначхира...
Былого сгладятся черты,
и горе станет меньше ранить...
Как мало сберегаешь ты,
короткая людская память!
Людское сердце, не остынь,
не позабудь свой день вчерашний:
ведь эти сёла, эти пашни -
на месте выжженных пустынь!
Хлебами прах людской пророс,
цветами кровь людская стала,
на эту землю море слёз
дождями тёплыми упало.
Людское сердце, не дремли!
Своей взыскательностью строгой,
своей недремлющей тревогой
храни покой родной земли.
Какие вновь там зреют планы?
Какой готовится набег?
Для дел каких за океаном
стомиллионный выдан чек?
И вот в стране моей богатой
под кровом мирной тишины
наёмный бродит соглядатай,
лазутчик лагеря войны...
Он заговаривает с нами,
в улыбке лживой скаля рот,
как тот, в потрёпанной панаме,
в далёкий предвоенный год...
Он по дорогам нашим рыщет,
он ищет спутников в пути,
бездумных, легковерных ищет,
но он не должен их найти!
За недоверье и пристрастье
пусть не осудят нас друзья:
ведь мы стоим на страже счастья,
нам глаз на миг сомкнуть нельзя.
Над узкой трещиной ущелья,
во мгле, лохматы и черны,
свисают траурные ели,
как память чёрная войны.
И слышен в сумраке беззвёздном
мне неумолчный голос их:
- О тех, о мёртвых, плакать поздно,
мир берегите для живых!
Наутро небо прояснится,
сползёт туман с зубчатых круч,
и рассветёт, и сквозь ресницы
в глаза ударит первый луч...
Девчонка, худенький подросток,
по льдам ступая в первый раз,
ты скажешь радостно и просто:
«Так, значит, вот какой Кавказ!»
Полёт орлов и рек рожденье
там, наверху, увидишь ты.
Прекрасно счастье восхожденья,
преодоленье высоты!
Но в утро счастья, в утро мира,
мне память затуманит взор:
через ущелье Гоначхира
лежит дорога на Клухор.
Я не хочу твоей печали,
но что же делать: я права;
всё расскажу я, не смягчая
рассказа трудные слова.
Блеснут ребяческие слёзы
в глазах внимательных твоих...
Не плачь! Не надо! Плакать поздно.
Бороться надо за живых!
Вероника Тушнова
6 декабря родился выдающийся ученый, мыслитель и кардиохирург Николай Амосов.
Заслуг Николая Амосова не перечесть. Он создал Институт сердечно-сосудистой хирургии, долгие годы был его бессменным директором. Спас более пяти тысяч больных, провел уникальные операции на сердце. На себе поставил эксперимент по борьбе со старостью.
"Первое - росла Катя. Ой, сколько она мне дала счастья, маленькая! Даже не думал, что такое возможно. Куда там - женщины. Бывало, утром прибежит в длинной рубашонке ко мне в постель, обнимет... Нет, не передать блаженства! Биологическое чувство". Это цитата из книги выдающегося украинского кардиохирурга академика Николая Амосова "Голоса времен". Когда смотришь на фотографии, где он снят со своей дочерью, глазам не веришь: это же совсем другой человек! Нежный, ласковый, какой-то даже незащищенный, хрупкий. А ведь многим он казался строгим и жестким. Заслуг Николая Амосова не перечесть. Он создал Институт сердечно-сосудистой хирургии, долгие годы был его бессменным директором. Спас более пяти тысяч больных, провел уникальные операции на сердце. На себе поставил эксперимент по борьбе со старостью. Написал сотни научных работ, десятки книг. И еще оставил после себя дочь, которая, как и он, работает в кардиохирургии. И вот я читаю табличку на двери кабинета Екатерины Амосовой в Октябрьской больнице: "Член-корреспондент АМН Украины, доктор медицинских наук, профессор. Заведующая кафедрой госпитальной терапии N 1 Национального медуниверситета имени академика Богомольца". Екатерина Николаевна заранее предупредила: "Я человек не публичный". Захожу в кабинет в предощущении строго выдержанного разговора.
"Я ОТРАВЛЕНА ТЕМ, ЧТО ВЫРОСЛА РЯДОМ С ТАКИМ ЧЕЛОВЕКОМ, КАК АМОСОВ"
- Екатерина Николаевна, почему вы называете себя непубличным человеком? Ваш отец, кстати, как раз много выступал, давал интервью...
Отец был редкой личностью. И знаете, я отравлена тем, что выросла рядом с таким человеком. Он для меня эталон, и я вольно или невольно всех с ним сравниваю. И себя тоже. Стараюсь, как и папа, относиться к себе самокритично. Поэтому зачем выставляться?
Как-то меня пригласили на телевидение поучаствовать в обсуждении темы "Элита Украины". Я отказалась, сказав, что человек, который считает себя каким-то элитным, видимо, полностью утратил самокритику. Папа этими вещами никогда не занимался.
- А как он вас оценивал?
В разные периоды по-разному. После его смерти мы с мамой нашли дневники, которые он вел. Писал их нерегулярно, без лишней информации, как человек разумный, понимая, что когда-нибудь их прочитают другие. Так вот, я узнала о себе, что в мои студенческие годы он оценивал меня достаточно критично. Считал, к примеру, что у меня нет широты интересов.
- Дневники будут напечатаны?
Мы думали включить их в четырехтомник (три книги вышли в прошлом году). Но близкие папе люди усомнились, стоит ли это делать. Аргументация была такая: о своих успехах и победах папа в дневниках не писал, а фиксировал в основном тяжелые моменты жизни, хирургические несчастья. И может создаться впечатление, что у него были сплошные неудачи, которые утаивались от широкой аудитории. Словом, решила повременить с публикацией.
- Чему он вас учил? Если можно, подробнее...
Подробности, сами понимаете, я вываливать не буду: не люблю трясти прошлое. Мне это не надо. Отец, извините, моя больная тема, и она у меня не отболела. И наверное, не отболит никогда. А о себе абсолютно не интересно говорить, клянусь вам без всякой рисовки.
- Понимаю. Тогда больше о нем. Каким он был для вас отцом?
Очень хорошим, я это могу оценить сейчас, когда имею свою дочь. При всей своей занятости он всегда находил для меня время. И душу. Брал меня с собой в поездки. В Москве мы ходили на лучшие спектакли Театра Вахтангова, Таганки, Моссовета, "Современника"... Кому-то папа мог показаться сухим, многим запомнилось, что он ругался на операциях. Но прежде всего он требовательно относился к себе. Был тонко чувствующим, чувствительным, ранимым...
- Вы родились, когда Николаю Михайловичу было 42 года. Почему так поздно?
Ребенка мои родители хотели раньше, но у мамы возникали проблемы с донашиванием. По той же причине и второго быть не могло.
Она доносила меня до семи месяцев. Начались преждевременные роды. И по правилам акушерства нужно было делать рискованную для ее жизни операцию - кесарево сечение. Мама пошла на это. Только, пожалуйста, не нагнетайте... Меня вытащили с весом 1 килограмм 700 граммов. Сейчас недоношенных хорошо выхаживают, а тогда, почти 50 лет назад, это было значительно сложнее. Но меня выходили. Сейчас вот говорю и задумываюсь: наверное, я выказываю недостаточно благодарности своей маме. Всю жизнь она прожила в тени отца. Но это естественно: рядом с таким человеком любой был бы в тени.
- Он не говорил, что хотел бы иметь сына?
Нет, ему одной дочери хватало. И мне - тоже.
"ОТЕЦ ЛИШНИЙ РАЗ НЕ ПРОСИЛ ПУГОВИЦУ ПРИШИТЬ, ДЕЛАЛ ЭТО САМ"
- Как вы учились в школе?
Прекрасно! Но мне было скучно заниматься. Я была не очень общительным ребенком, не принадлежала ни к какой компании и, в общем-то, от этого страдала. Тогда, если помните, дети-вундеркинды - будущие математики, пианисты - сдавали школьные экзамены экстерном и поступали в университеты, консерватории в 12-13 лет. Папа не побуждал: мол, давай и ты. Он только заронил во мне эту идею, а решение приняла я сама - пройти за год три класса.
- И сколько времени вы просиживали за учебниками?
Я могла и восемь часов в день прозаниматься. Но мы с папой обсуждали, что более шести часов умственно работать непродуктивно. Потому что если сегодня перегрузишься, то завтра голова будет работать хуже. И КПД (коэффициент полезного действия) за два дня будет небольшой. Папа был сторонником разумного подхода. Никакой штурмовщины ночами!
- Мы в свое время только так и готовились к экзаменам...
Неорганизованность чистой воды. Помимо школьной программы, я полгода готовила с репетиторами физику, химию, биологию для поступления в мединститут. Сдала их на отлично. А вот трехлетнюю программу по алгебре и геометрии прошла без преподавателей, получила четверки. И окончила школу без золотой медали.
Неужели нельзя было попросить пересдать экзамены, как это делается сплошь и рядом у детей даже менее известных людей?
Это исключалось. Папа абсолютно не признавал блата. Он мне говорил: "Если ты знаешь на пять, то всегда можешь получить четыре. Я этими честными четверками, может быть, горжусь больше, чем пятеркой по физике, в которой у меня голова совершенно не варит. Физика мне давалась с колоссальным трудом, и брала я ее исключительно зубрежкой.
- Ваш отец никогда никого не просил?
Он любил повторять фразу из "Мастера и Маргариты" Булгакова: "Никогда ничего не просите!.. Сами придут и сами все дадут!". Он жил по этой фразе. И ужасно переживал, когда ситуация складывалась так, что вынуждала его к обратному.
Я уже была глубоко замужем, родители два года снимали нам с мужем квартиру. И было такое положение, что академики для своих детей имели право на кооператив. Папа обратился к мэру Киева. Но тот ему отказал. Больше его папа не просил. Фамилию его не помню. Этого мэра сменил другой, и папа "наступил себе на горло" - обратился к новой власти, только тогда квартирный вопрос был решен положительно.
Машину он продал, когда я была еще маленькой. А нам с мужем, конечно, хотелось иметь свою, сами знаете, что творилось с ними тогда. У папы были возможности как у депутата Верховного Совета СССР, и он пошел на одну встречу с просьбой. Для него это был совершеннейший героизм: ему не хотелось просить кого бы то ни было.
Так же и в быту. Лишний раз он не просил пуговицу пришить, делал это сам. Из-за бессонницы рано вставал, но не беспокоил маму, чтобы она готовила ему завтрак. Относился к другим бережно.
- Вы тоже не любите просить?
Не люблю, но не настолько, как он. Я, конечно, прошу гораздо больше, это не сравнить. Но одно дело - просить, и совсем другое - одолжаться. Папа всегда говорил: "Попросишь об одолжении - и потом будешь в долгу. Вот я независимый, никому не обязан".
- Отец вам помогал писать докторскую диссертацию, а потом защитить ее?
Он ее прочитал, когда она была уже написана. Я получила его одобрение. Он помог мне тем, что был такой фигурой в этом мире. Часть больных я обследовала в его клинике, такую возможность имела благодаря тому, что он был директором института. Сотрудники мне помогали, потому что были его подчиненными. При этом я испытывала дискомфорт. Мне было неловко, что я занимаюсь этим, потому что дочка шефа. Хотелось сжаться, стать менее заметной. Но с больными возилась я сама. Писала сама. И защитилась сама.
- А потом, когда вы стали заведующей кафедрой института, чувствовали дискомфорт?
Лет пять еще чувствовала. Ведь я защитила докторскую в 33 года. Вот этот кабинет делался не под меня, а под покойного Александра Иосифовича Грицюка. Он был фигурой в медицине, я - явно нет. Чувствовала, что занимаю место не по плечу. Но я честно работала, чтобы соответствовать.
"ОТЕЦ ПЛЕВАЛСЯ, КОГДА ВИДЕЛ ОБИЛИЕ СЕКСУАЛЬНЫХ СЦЕН ПО ТЕЛЕВИЗОРУ"
- Вы следуете по жизни его советам?
Если бы следовала, было бы здорово. Но не получается. Я очень приземлена, люблю комфорт, склонна к вещизму. А он был аскетичен.
- Он сильно прессинговал, наставляя вас?
Советы он, естественно, давал, но не лез с ними. Это очень редкое качество.
- Подавлял аргументами?
Если я делала что-то неправильно, подавлял! Но не избыточно. Когда я растила дочку, постоянно ругал меня, что я мелочно ею руковожу. К примеру, он хотел, чтобы я полегче ее одевала, а не кутала.
- И вы с ним сразу соглашались?
Я не настолько умная, чтобы сразу соглашаться. Особенно в юности понаделала глупостей. Как сейчас помню, мы с отцом вместе собирались в круиз по Средиземному морю. У него не было особого энтузиазма, он это делал для меня. Тогда недостаточно было выбить путевку и оплатить ее. Нужно было получить безукоризненную характеристику с подписью парторга института и другие бумажки.
Потом меня пригласили на заседание бюро райкома комсомола. Задавали дурацкие вопросы типа: "В каких местах на территории нашей необъятной родины вы бывали?". Хорошо, что я с отцом ездила в Москву, в другие города, а то бы меня укорили: "Если вы нашу родину не нюхали, то зачем ехать за границу?".
Короче, я все эти этапы прошла. Поездка была на мази. И тут возникла ситуация, когда я очень поздно вернулась домой. Мама у меня очень переживучая, она с ума сходила. Наконец я явилась. Папа сказал: "Так, все! Ты виновата и должна быть наказана. Никуда мы не едем".
- Довольно жестоко...
Почему жестоко? Справедливо! Я поступила дурно, совершила аморальный поступок. Поэтому даже не пыталась отца просить. Для меня это был очень хороший урок.
- А он бывал не прав? Мог вспылить?
Очень редко. Быстро отходил и, подумав, извинялся. Но не расшаркивался передо мной. В основном-то он был прав!
- Не предостерегал вас от мужчин, у которых по отношению к женщинам, как известно, только одно на уме?
Нет, нет. Таких разговоров не было. Сейчас эти темы стали расхожими. А тогда с ними было не так свободно. И кстати говоря, сдержанность чувств - хорошо все-таки.
- Литература воспевает страсти, безумие в любви...
Литература есть на все вкусы. Есть такая, которая воспевает безумные страсти, а есть другая, воспевающая романтику.
- А вы какой отдавали предпочтение?
Хорошую литературу, классику я прочла еще в ранние школьные годы. Папа собрал большую библиотеку, он очень трепетно относился к книгам. У него была привычка - по воскресеньям ходить по букинистическим магазинам. Привозил очень много книг из-за границы. Я прочла несколько произведений на английском - это так называемая дамская литература, со страстями. Но сексуальных подробностей с извращениями в ней не было. Еще я читала "Анжелику" Анн и Сержа Голон. Это было интересно, но не супер.
Вы читали "Эммануэль", в которой предельно раскованная французская девица бесконечно ищет эротических приключений?
Эта книга попалась мне уже во взрослом возрасте. Начала читать, мне стало скучно, не понравилось. Чувство гадливости было от книги Лимонова "Это я, Эдичка". Харьковский мальчик... Мне, кажется, он специально так писал, и это не вся его жизнь.
- А ваш отец какого был мнения о Лимонове?
- Когда вы вышли замуж?
На шестом курсе, мне было 22. Мой муж - Владимир Мишалов, профессор, заведующий кафедрой хирургии нашего мединститута. Последние пять лет мы работаем в одной больнице. Он старше меня на год.
"Я КРЕСТИЛАСЬ В 35 ЛЕТ - НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ"
- Николай Михайлович одобрил ваш выбор?
Да, отец уважал Володю и отдавал ему должное.
- У вас в семье возникали разногласия?
Естественно, как у всех. Но таких моментов было совсем мало, тут мы капитала не наживем. В общем-то, можно держать себя в руках. У Салтыкова-Щедрина есть такая фраза: "Скажите, а с генерал-губернатором вы тоже нервный?". То есть позволяете себе распуститься, обругать, накричать, как это делают муж и жена дома. Мы часто отыгрываемся в семье или на подчиненных. Это распущенность. В этом плане папа тоже старался себя контролировать.
- Николай Михайлович знал себе цену?
Однозначно. Но дифирамбы его раздражали, он был к ним равнодушен. Тем более что очень часто высказывали их люди, которые не разбирались в том, чем он занимался. Славословие по поводу себя пресекал. В дневниках писал, что понял для себя, как устроен мир, по каким законам живет общество. И высказывался сдержанно и реалистично: жалко, что нет ни времени, ни возможности, ни штата сотрудников донести это до людей. Если он знал такие вещи, то что для него были похвалы?
- А вы согласны со всеми его взглядами?
Я читала папины статьи. Но, как человек узкопрофессиональный, в эти вопросы не вникала, в политику - особенно. К сожалению, мне это неинтересно.
В последних интервью и статьях Амосов говорил: Бога нет, но он растиражирован в миллиардах умов. А ваше мнение?
В Бога папа не верил. Но хотел поверить. И понятно, почему: жизнь шла к концу, а чем ближе к смерти, тем страшнее.
Он прочитал много литературы на эту тему, что нашло отражение в его дневниках. Знакомые приносили ему увлекательные публикации из Интернета. На какое-то короткое время он склонился к тому, что есть Нечто - Бог, но буквально в следующей записи от этого отказался. Однако он не опровергал необходимость веры. Говорил, что это хорошо для морали общества, для морали людей. Но сам не мог поверить.
- Что-то ему мешало?
Мешало то, что это недостаточно аргументировано научно. Такой человек, как мой отец, не мог слепо верить. Все должно быть убидительно обосновано.
- Вы крещеная?
Мне не очень хотелось бы об этом говорить. Я крестилась, когда мне было уже 35. Не могу сказать, что это было так уж осознанно. Знаете, есть вещи, которые делаются иногда на всякий случай. Мне тоже не хватает доказательств. Я так устроена. В этом плане понимаю отца.
"ЕХАТЬ В "СКОРОЙ" ПАПА НЕ ЗАХОТЕЛ. НАОТРЕЗ ОТКАЗЫВАЛСЯ ОБСЛЕДОВАТЬСЯ"
- Екатерина Николаевна, простите, что задаю эти вопросы, но такова уж моя профессия. Расскажите о последних месяцах, днях, часах жизни вашего отца...
Я понимаю, что на бытовом уровне всех интересует, как умирают известные люди. Мне самой интересно, когда читаю. Но вспоминать о том, как уходил из жизни родной отец, больно. Я согласилась на этот разговор, потому что ваш главный редактор сделал с моим отцом великолепное интервью по телевидению и не отказал мне, когда я попросила его выступить на презентации трех книг четырехтомника. А я человек, который отдает долги.
У папы примерно за год развился инфаркт - полноценный, крупноочаговый, но не супербольшой. Он не мог в это поверить. И сначала не хотел ложиться в больницу. Через три дня согласился, проявив доверие к нашему коллективу.
Пробыл здесь больше трех недель. Выписался в приличном состоянии. Хотя работа сердца, естественно, ухудшилась, потому что утратился какой-то процент сердечной мышцы. Он что-то скрывал, не хотел меня расстраивать. Думал не только о себе, что вообще редкость - на это 99 процентов больных вообще не способны. Пожалуешься - и уже легче.
Он осознавал свои проблемы. Понимал: жизнь кончается. Реально кончается. Что я ему предлагала для лечения? Приносила специальную литературу, он ее читал, и мы, обсуждая, принимали совместные решения. В таблетки не верил. Скажем так: мало верил.
Летом, видимо, случился второй инфаркт. Наверное, был еще и третий. Они были малосимптомны. Но каждый из них приводил к нарастанию сердечной недостаточности.
Еще летом была боль в боку, которую мы не могли объяснить. Без какой-либо причины повышалась температура, с ознобом. Мы с мужем думали, что, возможно, это какая-то инфекция или онкология. Но папа наотрез отказывался обследоваться. Он очень плохо себя чувствовал.
По квартире почти не ходил. Лежал недвижим. Я очень переживала. Убеждала его: "Давай посмотрим: если это инфекция, то залечим ее антибиотиками, если сердечная недостаточность, будем принимать более сильнодействующие препараты".
Полноценное интенсивное лечение дома трудно организовать. Потому что в этом процессе должны быть задействованы несколько человек. Он долго не хотел снова ложиться в больницу. Наконец я его уговорила. От "скорой" отказался. Я попросила двух своих сотрудников, чтобы они помогли снести его с лестницы, посадить в обычную машину. Была уверена, что он вернется домой. Ненадолго, но все-таки вернется.
Было три инфаркта: точно. Нарастала сердечная недостаточность, ухудшились показатели сердца. Мы успели сделать часть обследований. Кое-что прояснилось, кое-что нет.
Сам механизм смерти был внезапный. Это случилось без меня, в присутствии врача реанимации Павла Григорьевича Паланта, с которым я проработала 25 лет. Он подошел к папе, тот пожаловался на боль между лопаток и попросил таблетку нитроглицерина. Наступила мгновенная остановка сердца. Тут же была начата реанимация, то есть время не было потеряно, что могло быть, если бы он лечился дома. Мои коллеги расценили, что был повторный инфаркт, и они, наверное, правы. Вскрытие не проводилось...
"НАДО НАПРЯГАТЬСЯ, ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ. ПИТЬ ТАБЛЕТКИ ГОРАЗДО ПРОЩЕ"
- Что полезного можно взять для себя из экспериментов Николая Амосова?
С точки зрения медицины то, что делал мой отец, не является таким уже экспериментальным. В последние годы во всем мире появилось много исследований и публикаций о дозированных тренировках для больных с сердечной недостаточностью. Правда, там нет акцента на пожилой возраст, но за рубежом люди живут долго. Может быть, есть и специальные геронтологические работы, но они мне неизвестны.
Однако мне хорошо знакома литература по дозированным тренировкам на велотренажерах, на беговой дорожке, с гантелями для больных, скажем популярно, с плохо работающим сердцем. Все это, безусловно, под врачебным контролем, с соблюдением всех мер предосторожности. Хотя не так уж много энтузиастов-врачей, которые бы этим занимались, и мало энтузиастов-больных, которые шли бы на такой дискомфорт для себя. Это же надо напрягаться! Гораздо проще пить таблетки.
Все эти исследования показывают, что такие тренировки не вредны. От них не падают замертво. Качество жизни они, несомненно, улучшают. И даже есть работы, которые показывают, что возможно продление жизни с тяжелой патологией сердца.
А отец придумал свою оздоровительную систему для пожилых людей, у которых преобладает распад белков. Для того, чтобы этому противостоять, надо увеличить физические нагрузки, то есть опять-таки напрягаться. Это не было для него такой вот бесшабашностью. Он на несколько лет опередил мир. И я убеждена как врач, что если бы он не делал физических упражнений, то прожил бы гораздо меньше.
- В последние годы у него были какие-то сомнения, что он чего-то недодумал?
Появлялись сомнения, может быть, в отношении избыточности тренировок. Но уже на фоне проявившейся патологии сердца. Как честный ученый, он писал об этом. Количество тех упражнений, которые выполнял каждый день, он никому не навязывал. И думаю, ничем не навредил обществу.
- А вы делаете зарядку?
Я уже шесть лет занимаюсь степ-аэробикой. Четыре года ходила тренироваться в группу. А сейчас это делаю дома сама.
- С едой как?
Когда разжирела, начала себя в пище ограничивать. Но я не хотела бы на эту тему распространяться. Как-то высказалась в прессе, так столько чокнутых стало звонить. Я не скажу тут ничего оригинального. Как говорит мой больной: "Самое главное - закрыть рот". Вот и вся методика.
- Известно, что ваш отец никогда не делал из еды культа...
Он к этому относился очень просто. Не был гурманом. Следовал известной фразе: "Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть". Он был дисциплинированным человеком и понимал, что вкусная пища в основном вредна, а полезно то, что невкусно. И впихивал в себя невкусную еду. Последние годы у него аппетит был плохой, он заставлял себя принимать пищу. Худел, потому что шел распад белков.
- Искушаться приятно, вы не находите?
Приятно, конечно, но ведь за все надо платить. С конфетами проще, я к ним равнодушна. Вот жареную картошку или просто свежий хлеб съела бы с большим удовольствием. Но редко отрываюсь. Потому что четко знаю: сейчас душу отведу, а потом этот килограмм, который я наем, надо будет сгонять, трудиться в более длительном дискомфорте. И все это ради минутного удовольствия?
Сижу в кафе, наблюдаю... Какими счастливыми становятся люди, когда берут выпивку. И молодые, и пожилые. Подзаправившись, выходят из кафе осиянными, благостными, обнимают друг друга, лобызают... Что можно дать им взамен? Оперу? Церковные песнопения?
По поводу выпивки отец пишет в своих книгах, что переносил алкоголь плохо, пока его друг - писатель Юрий Дольд-Михайлик - не научил его пить коньяк без тошноты. Отец признавал, что умеренное употребление алкоголя доставляло ему удовольствие, улучшало настроение. Он и к этому подходил рассудочно. Все у него было гармонично, без крайностей. Сухое красное вино вообще полезно, по науке.
- После болезней люди добреют?
Многие становятся еще хуже.
- А какая вы в болезни?
Вредная. Мне себя так жалко становится. Начинаю внимания требовать.
- Я, кстати, два года назад лежал в вашем отделении со стенокардией. 53 года...
Для мужчины это опасный возраст. Но, в принципе, вы из него выходите. Мужчины либо вымирают до пенсии, либо живут долго.
Я хотел бы услышать от вас волшебные слова: как заставить себя перемениться, не дожидаясь, пока тебя к этому принудит больничная койка?
Надо испугаться смерти. Папа говорил: "Слава Богу, что человек живет так, как будто он будет жить вечно". Человеку свойственно отгонять мысли о своей неизбежной кончине, потому что они отравляют существование. Он придумывает для себя разные отговорки - то, что я бы назвала литературщиной. Проще сидеть в кафе, пить водку и пиво, умиляться друг другом, рассуждать о том о сем, чем быть разумным и не доводить себя до болезней.
Поэтому, чтобы начать себя ограничивать, надо почувствовать, что эта ниточка, которая тебя связывает с жизнью, может в любой момент оборваться.
Я думаю, что каждый, в общем-то, это понимает и говорит себе: завтра начну новую жизнь, завтра, но только не сегодня...
Все! Завтра уже нет! Шагреневая кожа - небольшой кусочек остался. Не все, конечно, но очень многое - в наших руках. Надо не сетовать на свою жизнь, а изменить отношение к ней. Продлить ее, улучшить ее качество возможно, и мой отец это доказал. Надо напрягаться!